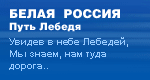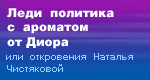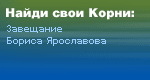«Последние проводы Льва Николаевича в Москве» - воспоминания Н.П.Ярославова, сына Почетного гражданина и певчего Чудовского хора
© Наталья Ярославова-Чистякова
25 апреля 2012 года
Россия обсуждает времена П.А.Столыпина, эпоху Александра III и Николая II. Мне же помогают их понять вот эти два документа из «распакованных» недавно архивов пошехонско-ярославско-московских Ярославовых.
Первый - это «Свидетельство № 1069 от 3 ноября 1883 года, выданное певчему Московского Чудовского хора Почётному гражданину Павлу Ярославову в память святейшего коронования государя императора Александра III с тёмно-бронзовой медалью для ношения в петлице на Александровской ленте. Санкт-Петербург, 22 апреля 1885 года. Управляющий Министерством внутренних дел, статс-секретарь».
Красная сургучевая печать этого документа напомнила мне печать на табакерке, подаренной Ф.С.Ярославовой, с комментариями известного историка В.Л.Модзалевского о том, что обладательница табакерки - супруга А.Т. Ярославова.
Может быть, эта красная императорская печать и есть самое главное в её тайне? («Федосья Ярославова и ее Архангельское»).
Второй архивный документ - Воспоминания сына певчего Чудовского хора и Почетного гражданина - Павла Николаевича Ярославова на тему: «Последние проводы Льва Николаевича Толстого в Москве», а также связанные с ними (по содержанию) дневниковые записи с размышлениями «о лакействе», что весьма актуально сейчас, когда «право» лакействовать выдается за гражданские свободы, также как и право на самоцензуру.
Приоритетным является, конечно, текст Воспоминаний, после знакомства с которыми невольно задаешься вопросом:
Кого ещё из «нецарствующих персон» до революции и после неё встречали так, как в этом описании последней встречи «Учителя человечества» Л.Н. Толстого, при этом отлученного от церкви и преданного анафеме?
О ком ещё написали так: «Лицо поражает тонкостью и благородством черт. Печать одухотворённости лежит на каждом изломе линий… Голубые глаза удивительны, и все обычные сравнения и эпитеты не помогут вообразить их. Ни у кого я не видел подобных глаз. Они прекрасны, но прекрасными делают их не те общечеловеческие свойства, которые заставляют признать красоту всяких других глаз, а нечто, совершенно особенное, неповторяемое. Это огромная сложность выражения. Глаза Льва Николаевича, когда он шёл, - думали, вспоминали, мягко укоряли людей за суматоху, болели и невольно растроганно благодарили. Это были совершенно человеческие глаза. А в спокойной неторопливости взгляда было что-то величавое и отеческое. И теперь мне стало понятным детски восторженное выражение лиц…»
Мои аплодисменты автору этого текста - Н.П. Ярославову, уже только за этот абзац, и благодарность за щедрый подарок потомкам от очевидца последней встречи с Львом Николаевичем Толстым.
О лакействе, 28 августа 1908
Неделя о Толстом. Все газеты переполнены его именем, каждый роется в памяти, ищет какого-нибудь эпизода, имеющего касательства к Толстому, мгновенно выкладывает на бумагу и продаёт по четвертаку за строчку - у нас неслыханная:
- Тетради нашего знаменитого…
Несколько дней тому назад также кричали о Тургеневе, также подыскивали эпизодики. Один даже вспомнил, что он сидел из-за Тургенева в карцере и с умилением сообщил сей факт, к сведению, почтеннейшей публики. Изрядное место имеет в этом сообщении, скромная, но затаённая мысль:
- Мы, мол, не что-нибудь… И к нам, дескать, было касательство… Высекли не кого-нибудь, а, именно, нас. Мысль, заставляющая лакея говорить:
- Мы с барином…
Теперь живая знаменитость вытеснила из газеты мёртвую. Несомненно, и о нём вспомнят факты врать «и нас высекли; один уже вспомнил, как он подавал Толстому кофе.
Не знаю, быть может, эти лакейские воспоминания вырываются у вспоминающих в пылу искреннего восхищения знаменитостью, но ведь и Захар питал к Обломову бескорыстные восхищения и, всё-таки, был кто-нибудь выше её, сегодня это может быть талант, завтра власть, ищущая, знамение только тем, что судьба снабдила его кулаком в виде денег.
Всё равно будут падать ниц и перед ним и падать бескорыстно от одного восторга, потому что сила всегда производит на людей такое действие. Это и есть истинное лакейство.
Тот же, кто при этом падении сохраняет цель, хотя бы и корыстную, выше толпы: значит он не растерялся, тогда, когда другие ополоумили, значит он умеет мыслит, тогда, когда других корчат судороги лакейского восторга. Это несомненный плюс корыстного человека.
Последние проводы Льва Николаевича в Москве, 1910 год, Курский вокзал
Я видел Толстого всего один раз в последний его приезд в Москву, при отъезде, на Курский вокзал. Было серенькое сентябрьское утро с облачным небом, с мокрыми тротуарами. Около вокзала столпилось тысячи две народу, и каждый прибывающий вагон трамвая выбрасывал всё новые и новые группы людей. И, как бы в противовес серому унылому утру лица оживлены, слова бодры и голоса звонки. Много фотографов;
они выбирают места получше. Каждый подъезжающий экипаж вызывает толки, его жадно осматривают:
- Не он ли?
Ждём долго, и толпа всё растёт и растёт. Учащиеся приходят с книжками под мышками, побросав занятия. Женщины, интеллигенты. Вдруг:
- Идёт!…
Кто-то бросил радостно-тревожное слово, и оно бежит от человека к человеку, достигает задних рядов:
- Идёт! Идёт!
Скромная коляска, запряженная парой вороных лошадей. За ней - другая. В коляске сидит старик, с белой бородой, в черной шляпе. Это он.
- Лев Николаевич! Здравствуйте, Лев Николаевич!…
Это кричит солидный, пожилой господин. Он бежит рядом с коляской и хватается руками за дверцу. Коляска въезжает в расступившуюся толпу. Толкотня, крики. Около коляски беснуется шумный, меняющий очертания клубок людей, и если бы не знать, то можно свободно подумать, что кого-то бьют. Меня оттеснили, и я поспешил на вокзал. В дверях давка. Чей-то испуганный голос кричи:
- Господа, осторожней! Мы создаём вторую Ходынку!
И от этого голоса, от давки и от слова «Ходынка» становится жутко, и возникает острое опасение за Льва Николаевича. Я проскочил в двери и прошёл в зал первого класса. Многие ждут на перроне, но я стою тут, потому что не успел взять перронного билета.
Толстой долго не показывается. Наконец слышны приближающееся шарканье ног и постепенно растущий гул голосов. Шеи вытянулись, все приподнялись на цыпочки, и на всех лицах - старых и молодых, красивых и безобразных, появилось одно общее выражение. Никогда я не видел ничего подобного, - что-то детское, светлое и по-детски, восторженное.
- Лев Николаевич! Прошу!… Расступитесь… Идёт…
Медленно, поддерживаемый под руки и, как мне показалось, сопротивляясь толчкам толпы, шёл старик, широкоплечий, невысокого роста. Его непокрытая голова была немного наклонена; иногда он кивал окружающим и, не спеша, обводил глазами толпу.
В руках он держал букет роз, и дорогой, красивый букет странно противоречил скромному простому костюму. Я не рассматривал, во что он одет, так как всё внимание обратил на лицо, но если не ошибаюсь, на нём был синеватый тёплый пиджак до колен и сапоги.
Мне думается, что ни одна из тех фотографий, к которым мы так привыкли, не передаёт вполне лица Льва Николаевича. По фотографии это лицо представляется массивным, крупным, мужиковатым. На деле совсем не то. Лицо поражает тонкостью и благородством черт. Печать одухотворённости лежит на каждом изломе линий. И есть ещё в нём славная интеллигентная усталость. И даже нос, знакомый, крупный русский нос, выглядит иначе. Мне подумалось, что с таким лицом никак нельзя сойти за мужика, как бы просто не одеться. Но что, безусловно, не передаёт фотография, да и ни одна чуткая искусная кисть не передаст - это глаза.
Они - не велики и смотрят из суровых, густых, торчащих бровей, за которые Льва Николаевича почему-то хочется называть дедушкой, - если его и звали дедушкой, то именно за эти брови. О глазах Льва Николаевича трудно говорить. Это голубые глаза удивительны, и все обычные сравнения и эпитеты не помогут вообразить их. Ни у кого я не видел подобных глаз. Они прекрасны, но прекрасными делают их не те общечеловеческие свойства, которые заставляют признать красоту всяких других глаз, а нечто, совершенно особенное, неповторяемое. Это огромная сложность выражения. Глаза Льва Николаевича, когда оншёл, - думали, вспоминали, мягко укоряли людей за суматоху, болели и невольно растроганно благодарили. Это были совершенно человеческие глаза. А в спокойной неторопливости взгляда было что-то величавое и отеческое. И теперь мне стало понятным детски восторженное выражение лиц.
Иначе не могло быть, - нельзя не чувствовать себя ребёнком - маленьким, взбудораженным, счастливым ребёнком в присутствии мудрого, любящего отца. Шёл великий, и только морщины, старческие синеватые жилки на лице говорили, что это человек, что он может утомляться, стареть.
Толстой прошёл мимо. Около него, охраняя от толчков, суетился высокий, так же радостно, детски оживлённый Маклаков. Вслед за Толстым хлынула толпа.
Я стоял, не зная, как быть. Мне хотелось ещё раз увидеть Льва Николаевича, но пройти в дверь нечего было и думать. Несколько женщин очутились в том же положении. Вдруг одна из них, хорошо одетая и молодая, подскочила к огромному окну рядом с входом, живо открыла его, подобрала юбки, прыгнула на подоконник и оттуда - на перрон. Мы устремились за ней. Выпрыгивать приходилось как раз около жандарма, и меня удивило, что он не обратил никакого внимания на наше внезапное и незаконное появление. Он стоял и, не отрываясь, смотрел туда, куда прошёл Лев Николаевич.
Около вагонов суеты и давки было ещё больше. Каждый столб унизан зрителями. Люди лезут друг на друга, чтобы разглядеть Толстого. Из окошек вагонов выглядывают счастливцы, которым привелось ехать в одном поезде с ним. Все кричат и просят друг друга посторониться и не мешать пройти Льву Николаевичу, но никто не думает этих просьб. И в криках, и в бестолковых просьбах та же детская шальная радость.
Меня притиснули к самим вагонам, и безумствующая лавина пронесла Толстого в вагон. На душе шевельнулась ревность к людям, которые беспрепятственно прошли за ним и скрылись за желтой лакированной дверью. Все смотрят в заветные окна.
- Попросите Льва Николаевича показаться! - настойчиво повторяют сотни голосов.
Толстой удовлетворил просьбу. Белая, с длинной бородой, голова, в профиль - библейская, напоминающая головы древне-еврейских патриархов, высунулась в окошко.
И мягкий, добрый голос произнёс несколько слов, которых я не расслышал за общим сдержанным гулом. Толстой благодарил за приём и сказал, что не ожидал такой встречи. Второй звонок, потом скоро, обидно скоро, третий. Машут шапками и платками.
В последний раз посетил Москву дедушка русской литературы. Толстой умер. Вечная память!
Н. Ярославов.
Божедомка. Выползов переулок, дом 23, кВ. 7.
(Так было подписано Николаем Павловичем в этих воспоминаниях).