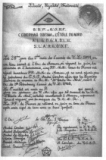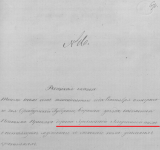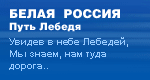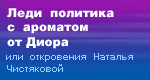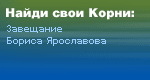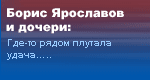Глава масонов из Кадниковского уезда Вологды и некрестьянское восстание «маркиза Пугачева» после раздела Польши и смены фаворитов Екатерины II
-

Раздел Польши 1772 года, после которого начался бунт «маркиза Пугачева» Cirota.ru
© Наталья Ярославова-Чистякова
1-3 апреля 2013 года
В 1791-1792 годах обрядоначальником теоретического градуса в Вологде был помещик Осип Алексеевич Поздеев, руководивший вологодской ложей «Святой Екатерины Северной звезды» в 1783-1784гг /1/. Осип (Иосиф) Алексеевич Поздеев носил Орденское имя «Пиус», имел собственный девиз - Sophus Pius de Eove (от София). «Особенную известность Поздеев приобрел после падения Новикова: он после него считался высшим покровителем масонства и истолкователем его тайн, а Московские масоны высшего круга смотрели на него даже как на святого. У него происходило посвящение в магистры лож; к нему за советом обращались начальники лож во всех затруднительных случаях, как теоретических, так и практических.» /2/.
«Дневниковые мои записки» вологодского помещика А.Т.Ярославова относятся по датам ровно к этому же самому периоду, когда О.И.Поздеев был обрядоначальником теоретического градуса в Вологде. Алексей Тихонович Ярославов начал писать их в 1790 году, и последняя запись датируется 13-м июля 1792 года. Удивившие меня частые «обеды» вологодских элит в доме А.Т.Ярославова у кафедрального Софийского собора, вероятнее всего, были собраниями «кандидатов» в местное масонство, каковых насчитывалось около 30 /3/. Хотя высказывалось и другое предположение, в частности, о том, что рядом с домом помещика Ярославова у Соборного моста в Вологде находилась палата Гражданского Суда и после сделок их участники обедали у А.Т.Ярославова.
Однако близость кафедрального Софийского собора, персональный девиз о Софии и Мудрости О.И.Поздеева, даты «Дневников моих записок» А.Т.Ярославова, земельные владения А.Т.Ярославова и О.И.Поздеева в Кадниковском уезде Вологодской губернии, а также упоминание в Дневниках А.Т.Ярославова «среди обедавших» двух из семи персон, выбранных О.И.Поздеевым в состав Вологодской Ложи Северной Звезды указывает на то, что Ложа «Святой Екатерины Северной звезды» заседала, видимо, в доме А.Т. Ярославова.
И в название правильно включать Святую Екатерину, потому что в Дневниках А.Т.Ярославова особо выделено это имя.
Об этом я упоминала в статье :
«День памяти Святой Екатерины 7 декабря почти совпадает датой Непорочного зачатия Девы Марии у католиков - 8 декабря.
Вологодский А.Т.Ярославов в своих «Дневниковых записках» особо выделял «Екатеринин день». Сначала мне подумалось, что он так выражает почтение императрице Екатерине II. Потом, что это скорее уважение к супруге сына - Екатерине Александровне Ярославовой и родной сестре матери Екатерине Алексеевне Волковой (в девичестве).
Однако по частоте упоминаний Екатерин, надо сделать вывод о том, что это и отражение культа Святой Екатерины у Ярославовых» («Крещение Синаем»… Утоли мои печали, Натали: «паломничество» по собственной жизни»).
Подобный же культ Святой Екатерины характерен и для Гатчинского Приоратского дворца Григория Григорьевича Орлова, имевшего общие земельные владения в Черемошской волости с М.И.Ярославовым, брат которого Федор Григорьевич Орлов был отцом четырех сыновей и дочери от Т.Ф.Ярославовой («Её высокоблагородие Госпожа Ярославова - мать братьев Орловых: Михаила, Алексея, Григория, Федора и дочери Анны Орловой»).
«Дворец в Гатчине был семейным домом Екатерины II и Григория Орлова, где они обрели трех детей в парадной опочивальне с шатром, вершину которого украшал золотой орел рода Орловых.
И весь Гатчинский дворец, по большому счету, был посвящен Екатерине II и женской царской власти, что не характерно для мужчины, который не отличает Даму сердца - царицу от крестьянок в поле. Дополнительным указанием на наследие Барусласов (в родословии Орлова) является камень Великий Могол, подаренный Г.Орловым - Екатерине II.
После смерти Павла I Гатчинским дворцом долго владела его вдова Великая княгиня Мария Федоровна.
В Туалетной комнате Марии Федоровны всегда находилась кукла-манекен «Большая Пандора» в платье Ордена Св.Екатерины…» («Франки на Севере: Зверинец и Приорат Григория Орлова в Гатчине, у Погоста Великой княгини Ольги, Ч.3»).
Можно было бы подумать, что культ Екатерины и название Ложи «Святой Екатерины Северная Звезда» связаны с культом императриц Екатерины I и Екатерины II.
Однако обе русские императрицы немецкого происхождения наречены этим именем в честь Екатерины Синайской.
Император Петр I,чья жена первой была названа Екатериной, пожертвовал драгоценную раку для святых останков великомученицы Екатерины на горе Синай /5/. В этом мне видится, и скорбь по Моисею, которого «Бог на Синае воззвал из несгорающего куста - «Неопалимой купины».
«Петровским» называли, замечу, и гимн « Коль Славен наш Господь в Сионе».
Этим «петровским гимном» в XVIII веке приветствовали Березовскую чудотворную икону Николы Закамского, которую в годы «крестьянской войны» спасало от бунтовщика Емельяна Пугачева местное население. При этом, сам образ много более древний. И наиболее близким аналогом является новгородская икона Николы Моложского XIII века, на которой, возможно, изображен Никола Святоша - первый святой Черниговский князь, близкий, через киевские Зверинецкие Пещеры, к культу горы Кармель и вознесенному «на огненной колеснице» пророку Илии. («Всемирная азиатская торговля в древней Мологе, у начала Тихвинской системы. Правда, которую пытались затопить»).
Почитатели иконы Николы Закамского, как уже ясно, не считали себя сторонниками Емельяна Пугачева.
Большим оппонентом Пугачева был и Осип Алексеевич Поздеев, возглавивший в 1783 году вологодскую ложу «Святой Екатерины Северной звезды».
Однако за 10 лет до вологодских событий, в годы Пугачевского восстания, О.А. Поздеев являлся дежурным офицером при усмирителе Пугачевского бунта графе П.И. Панине, сын которого, позже, стал супругом дочери В.Г.Орлова - опекуна и воспитателя детей Т.Ф.Ярославовой, в первом браке Окуловой («Её высокоблагородие Госпожа Ярославова - мать братьев Орловых: Михаила, Алексея, Григория, Федора и дочери Анны Орловой»).
В годы закамского восстания маркиза Пугачева - О.И.Поздееву было 32 года. Вероятно, с этого времени и началось его посвящение в масонство. Возможно, именно графом П.И.Паниным, дежурным офицером которого он был.
Таким образом, в 1774 году Осип Алексеевич Поздеев был в тех самых закамских местах, для которых характерен культ икон: Николы Закамского и Табынской иконы Божией Матери («Ярославовы, Светлояровы раскольники и казаки у места явления «Надежды в конце Мира» - Табынской иконы Хазарской епархии в Башкирии»).
Участие в подавлении Пугачевского бунта произвело на О.И.Поздеева столь неизгладимое впечатление, что он ещё многие годы возвращался к этим событиям. И обсуждал их в переписке - свидетельством чему : «Письмо усмирителя Пугачевского бунта гр. П. И. Панина к известному масону, Вышневолоцкому помещику О. А. Поздееву. Из Москвы 21-го декабря 1776 г.»
И даже через 40 лет после Пугачевских событий, в 1814 г., в связи со слухами об освободительных намерениях правительства, О.И. Поздеев вновь составил записку: «Мысли противу дарования простому народу так называемой гражданской свободы». И это при том, что к указанным временам Поздеев уже «был одним из «главарей московского масонства конца XVIII и первой половины XIX века, ставший при Александре I признанным руководителем старых масонов».
О.И. Поздеев был приверженцем крепостничества. Он считал простой народ неподготовленным к дарованию ему свободы. Жестко притеснял крестьян. И такое его суровое отношение вызвало, наконец, возмущение крестьян. «Впрочем, сам О.А. Поздеев объяснял это возмущение, сравнивая его в своих инсинуациях с Пугачевским бунтом, «желанием безначальства», «дабы не было дворян» /1/.
Татьяна Федоровна Ярославова, оставившая свой след в истории, в том числе, и в связи крестьянским восстанием, похоже, тоже придерживалась взглядов, близких - к взглядам О.И. Поздеева. Я, в данном случае, веду речь о статье Цинмана А.З. «Классовая борьба помещичьих крестьян Вологодской губернии в 1-й половине XIX века», где упоминаются жалобы об истязании и притеснении крепостных помещицей Ярославовой.
Поместья Т.Ф. Ярославовой, в которых отмечались крестьянские восстания, были приобретены Ф.Г. Орловым у Пушкиных и Салтыковых.
К роду Салтыковых, из которого была царица Прасковья, что печально, принадлежала и известная «душегубица крепостных крестьян» - Салтычиха, о родственных связях которой Екатерина II даже запретила упоминать. Расследование преступлений «Салтычихи» шло четыре года : с 1764 года по 1768 год.
«По итогам расследования Дарья Салтыкова именовалась в нем самыми уничижительными эпитетами, как-то: «безчеловечная вдова», «урод рода человеческого», «душа совершенно богоотступная», «мучительница и душегубица» и пр. Императрица осудила Салтыкову к лишению дворянского звания и пожизненному запрету именоваться родом отца и мужа.
«Надворный советник Волков насчитал 138 крепостных Салтыковой, ставших, по его мнению, жертвами преступлений хозяйки. Следствие совершенно точно установили время начала Салтыковой убийств и истязаний дворни. Вплоть до смерти супруга в 1756 г. за Дарьей Николаевной никто не замечал особой наклонности к рукоприкладству. Причем смертность среди женщин намного превосходила смертность среди мужчин».
Как пишет автор статьи о Салтычихе, «следствие так и не установило, чем же была вызвана неудержимая агрессивность Салтыковой, если точнее, этим вопросом следствие вообще не задавалось. И высказывает предположение, что у неё была латентная гомосексуальность. Такая немотивированная жестокость характерна для эпилептоидов, Причем в отличие от других психопатов, в сексе они всегда играют активную роль» («Салтычиха»)
В этой скрытой гомосексуальности, в частности, автор увидела предполагаемую причину того, что женщина, соблюдавшая внешнюю обрядовость и даже совершившая паломничество в Киево-Печерскую Лавру, щедрая дарительница монастырям и церквям, при этом, виновна в смерти нескольких десятков людей.
Однако автор не учитывает «алхимию» Салтыковой. Она все-таки была древнего рода. А кровь у них «кипит», что, кстати, требует особой ответственности и интеллектуального развития. К тому же, её муж Глеб Салтыков до брака с Салтыковой был увлечен царицей Анной Леопольдовной. Были ли у него отношения с женщиной из рода Вельфов - не известно. Но просто внешней православной обрядовостью всё вышеописанное «смешение кровей» и «бурление кровей», сделавшее Салтычиху садисткой, - не проконтролируешь.
Не упоминает о прецеденте «Салтычихи» и О.И. Поздеев, когда рассуждает об отношении к крепостным и их неготовности к свободе.
Могу согласиться с тем, что не все крепостные были готовы к свободе.
Но пример «Салтычихи» четко показывает, что и «Не все дворяне были готовы к управлению крепостными».
Поэтому тут, скорее, видятся недоработки в системе взглядов самого О.И.Поздеева, хотя он и увлекался алхимией.
В 1797 году в имениях О.И. Поздеева, в Кадниковском уезде тоже были восстания крепостных. Участвовали в них, вероятно, и свои «салтычихи», в смысле «выродки рода человеческого» в женском и мужском обличии.
Что касается неудовольствия помещичьих крестьян правлением Т.Ф. Ярославовой, в бывших имениях Салтыковых, то оно имело место спустя почти 20 лет после волнений крепостных в имениях О.И.Поздеева, и спустя пол века после дела «душегубицы» Салтыковой.
Сама Т.Ф. Ярославова в это время жила в Петербурге. Хотя отношение управляющих к крепостным могло отражать и её склонность к властности.
Причем Т.Ф. Ярославова выделяется в этом среди других женщин Ярославовых. Хотя её сын Михаил Орлов выступал против крепостного права и телесных наказаний для солдат.
Одно из объяснений можно найти в том, что Т.Ф. Ярославова была крупной помещицей, и у неё было очень много крепостных. Но, одновременно, можно увидеть в этом и особую близость к О.И. Поздееву.
Именно Т.Ф.Ярославову называют рязанской помещицей, о чем я несколько лет назад читала в самых первых сообщениях о ней.
В то время как О.И. Поздеев, уже после Пугачевского восстания, возглавлял также рязанскую масонскую ложу Орфей, в которой, в частности, состоял гравер Н.И.Уткин /8/, автор известного пушкинского портрета :
«О. А. Поздеев в «Речи, говоренной в ложе Орфея» также советовал «чтение полезных, направленных на истинное познание природы и человека сочинений» /7/.
В статье «Рязанские масоны
Натальи Гуторовой «Тайна тайной типографии», также рассказывается о влиянии О.И. Поздеева на Рязанское масонство:
«В конце 1785 г. здесь существовала масонская ложа «Орфея», великим магистром которой был Осип Алексеевич Поздеев, член розенкрейцеровского ордена и один из ведущих масонов того времени. Масонами были многие рязанские дворяне.
Село Пехлец было бы чрезвычайно удобным местом для устройства тайной типографии - кому бы ни принадлежала сама идея устройства: Новикову или Лопухину.
Типография в Ряжском уезде до сих пор остается тайной. С течением времени ее существование признается за само собой разумеющийся факт. Если она действительно была основана, то стала одной из первых сельских типографий в России. Если же издательское дело так и не дошло до рязанской провинции, то история о типографии в Пехлеце останется красивой легендой. При этом легендой, тешащей самолюбие рязанцев.
Известно, что в конце 80-х годов XVIII в. одним из владельцев села Пехлец был Иван Заборовский, женатый на Елизавете Лопухиной. Елизавета приходилась дальней родственницей Ивану Лопухину. Однако в указанный промежуток времени Заборовский только вступал в права владения имением и вероятность того, что тогда же он ввязался в опасную авантюру с устройством типографии, достаточно мала.
Есть еще один кандидат на роль хозяина тайной типографии - прапорщик Кирилл Васильевич Дубовицкий. Брат и сын Дубовицкого были сторонниками масонства, однако поддерживал ли сам Кирилл Васильевич эти взгляды, неизвестно» (Рязанские ведомости (Рязань).- 18.01.2008.- 008).
Как видим, присутствие и влияние О.И. Поздеева в Рязани были значительным.
Я не могу сказать, что в жестком отношении к крестьянам Т.Ф.Ярославовой есть прямое продолжение взглядов О.И. Поздеева. Вполне вероятно, что в случае с протестом её крестьян, имело место искажение женской интерпретацией «мужского знания». Однако круг этот был близкий.
В какой - то момент, в том числе и после того, как мне не один раз задали вопрос о Федоре Ярославове - отце Т.Ф.Ярославовой, я подумала о том, что несколько Федоров было в ветке Ярославовых из деревни Ярославовой на реке Бирь около Бирска (Челяндино - Архангельское).
Т.Ф.Ярославова в годы Пугачевского восстания была по возрасту девушкой на выданье. И она должна была быть хороша, как написали про одного из Ярославовых - «сама Природа». Можно сказать Флора. А именитых и родовитых участников подавления Пугачевского восстания в то время за Камой было много.
У меня нет сведений о том, был ли среди них Александр Прокофьевич Окулов, её первый супруг.
Но главнокомандующим при подавлении Пугачёвского восстания значится Александр Ильич Бибиков. Это сын того самого Ильи Александровича Бибикова - генерал-майора инженерного корпуса, который упоминается вместе с Прокофием Окуловым - отцом мужа Т.Ф.Ярославовой в контексте « Ландкарты Славяносербии» в 1755 году.
Т.е. отец мужа Т.Ф. Ярославовой был хорошо знаком с отцом Александра Ильича Бибикова, повторю, главнокомандующего при подавлении Пугачевского восстания, к которому Екатерина II обращалась в ипостаси «казанской помещицы».
Поэтому нельзя исключать того, что отец Т.Ф. Ярославовой - Федор был из закамской или заяицкой ветки Ярославовых, принимая во внимание тот факт, что Николу Закамского иногда называют Николой Заяицким.
Деревня Ярославовой, с которой связана «закамская ветка» названа именем «казанской помещицы Ярославовой». Это потомки Ярославских и Суздальских князей, сосланных семьями в Казань Иваном Грозным, дабы превратить их в «казанских помещиков».
Солидарности именно этой влиятельной закамской знати из «Казанских помещиков» - потомков сосланных князей и бояр, и искала императрица Екатерина II в дни Пугачевского бунта.
А.С. Пушкин в его «Истории Пугачева» рассказывает:
«Императрица изъявила казанскому дворянству монаршее благоволение, милость и покровительство, и в особом письме к генерал-аншефу А.И. Бибикову, именуя себя казанской помещицей, вызывалась принять участие в мерах, предпринимаемых общими силами. В ответном письме императрице от «казанских помещиков», именно к этому обращению, как я понимаю, относятся их слова: «Се прямо путь к сердцам нашим! Се преславное превозношение праху нашего и потомков наших».
Причем Императрица Екатерина II не ограничилась этим. В 1773 году был создан её гравюрный портрет в образе «Казанской помещицы» художника Дикинсона. («Казанские помещики»: Ярославовы и Екатерина II. «Казанская ссылка» князя Александра Ярославова-Ярославского»).
Уже после этих событий, ближайшей родственницей Екатерины II оказалась Татьяна Федоровна Ярославова, имевшая после краткого брака с А.П.Окуловым, также как и Екатерина II, детей от одного из братьев Орловых, приведших к власти императрицу. Т.е. дети Т.Ф.Ярославовой и Екатерины II, о чем уже говорилось, были двоюродными братьями и сестрами.
Современниками искомого отца Т.Ф.Ярославовой (по возрасту), также как и Пугачевских событий, в дер.Ярославовой около Челяндино (Бирска) были три брата: Алексей Иоаннович Ярославов, Андрей Иоаннович Ярославов и Василий Иоаннович Ярославов.
При этом у Алексея Иоанновича Ярославова был сын Федор Алексеевич Ярославов, а у Василия Иоанновича Ярославова - сын Леонтий Васильевич Ярославов (см. схему Родословия Ярославовых из деревни Ярославовой).
Само имя Леонтий обращает на себя внимание ещё и потому, что одним из первых бояр Ярославовых, получивших земли после вхождения Ярославского княжества в состав княжества Московского был Леонтий (Алексеев) Ярославов обладатель несудимых грамот на земли в Черемошской волости Ярославского уезда (см. Схему родословия Ярославовых - Оболенских, бояр и дьяков Ярославовых).
Не менее замечательно, в этом контексте, и имя жены закамского Левонтия Васильевича Ярославова - Соломония, что не может не напомнить царицу Соломонию Сабурову - родственницу супруги князя Ярослава Васильевича Оболенского - родоначальника князей Ярославовых. Последний из князей Ярославовых - князь Ярославский Александр Ярославов был сослан в Казань, на что указывает д.и.н. Роман Скрынников в его книге «Иван Грозный».
Левонтий Алексеевич Ярославов упоминается в Грамоте Ивана III от 23 марта 1464 г. на села в Черемовской волости Ярославского уезда. Он числился в придворных списках. Участвовал в установлении московской власти в Твери при Иване Молодом (1440-1445 (?) - 1497 (?)
У Левонтия Алексеевича Ярославова были сыновья: Федор Леонтьевич Ярославов и Андрей Леонтьевич Ярославов, который в 1495 году также числился в разрядном списке придворных, сопровождавших великого князя в поездке в Новгород.
Упоминается в царских Грамотах и брат Левонтия Алексеевича Ярославова - Василий Алексеевич Ярославов. Его сына звали - Леонтий Васильевич Ярославов.
Получается, что на реке Белой и Бирь в деревне Ярославовой уже в XVIII веке полностью воспроизведены имена родовых веток бояр и дьяков Леонтия и Василия Ярославовых XV-XVI веков, первых крупных землевладельцев бывшего Ярославского княжества, присоединившегося к княжеству Московскому.
Речь идет об именах : Левонтий, Андрей, Алексей, Василий, Федор.
Василий и Алексей в архивных документах 1744 года называются сыновьями «умершего Ивана Григорьева сына Ярославова». («Ярославовы из Ярославовой: «горсть Богатырского племени», 460 лет в предгорьях Урала. Архивы Уфимского головы Д.С.Волкова и Руфа Игнатьева»).
Таким образом, их деда звали Григорий Ярославов и он вполне мог быть сыном Михаила Ярославова - есаула Степана Разина, земляком которого позже был и Емельян Пугачев. Замечу, что обратить внимание на Михаила Ярославова - есаула Степана Разина, в частности, рекомендовал мой отец Борис Ярославов («К разговору о казачестве: История гибели разинского есаула Михаила Ярославова близ Свияжских святынь»).
В таком случае, ряд обсуждаемых имен закамских Ярославовых - современников Т.Ф. Ярославовой получается следующий : Михаил, Григорий, Василий, Алексей, Федор, Леонтий, Иван.
Именно к этому ряду относятся и имена сыновей Татьяны Федоровны Ярославовой:
Алексей, Михаил, Григорий, Федор.
Хотя Т.Ф.Ярославова могла повторять, отчасти, и имена родных братьев Орловых : Алексей, Григорий, Иван, Федор, Владимир.
Одновременно, со сказанным выше, обращает на себя внимание тот факт, что в Рыбинском фонде «Помещиков Ярославов» нет данных о потомках Левонтия Алексеевича Ярославова и Левонтия Васильевича Ярославова - сына Василия Алексеевича Ярославова.
При этом, хорошо прописано потомство второго сына Василия Алексеевича Ярославова - Никиты (Микиты) Васильевича Ярославова, который в 1610-1612 годах был пожалован поместьем королем Сигизмундом.4 (Ельчининов И.Н. «Материалы для генеалогии дворянства Ярославской губернии», ЯГВ, № 77, 1915 г., с.4).
В потомстве же Микиты Васильевича Ярославова более полные данные о родословии соответствуют «Дмитриевской ветке», тогда как «Богдановская ветка», проявившая себя около Смоленска, представлена эпизодически и затем теряется.
Такая наполненность архивного фонда «Помещиков Ярославовых» вполне объяснима, потому что данные о родословии восстанавливали А.Т.Ярославов и М.И.Ярославов из «Дмитриевской ветки» - потомки Никиты (Микиты) Васильевича Ярославова.
Сохранившие историю деревни Ярославовой архивы УНЦ РАН были сформированы на основе собрания материалов Главы города Уфы Д.С.Волкова, приобретенных у его вдовы, в собственность города, Уфимской городской думой в 1911 году… В них и упоминается : «Грамота 1689 г., 1651, 1641 гг. крестьян деревень Баженова починка, Бурнова и Ярославова…»
Находилась деревня Ярославовой, что видно по тексту Грамоты, не только рядом с Челяндино, названным изначально именем Федора Челяндина, а затем получившим название Бирск, но одновременно и рядом с деревней Бурново («Ярославовы из Ярославовой: «горсть Богатырского племени», 460 лет в предгорьях Урала. Архивы Уфимского головы Д.С.Волкова и Руфа Игнатьева»).
Указанная в грамоте топонимика Бурново полностью совпадает с - Рыбинской топонимикой.
Была некогда деревня Бурново Рыбинского уезда.
В текущем году адрес администрации «рыбинского Бурново» весьма примечателен, с учетом того, что речь идет о родословии Татьяны Федоровны Ярославовой, имевшей четырех сыновей и дочь от Федора Григорьевича Орлова - родного брата Григория Григорьевича Орлова
«Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, 1».
Т.е. сама топонимика Бурново объединяет дер.Ярославово и Бурново близ Бирска (Челяндино), братьев Орловых и Бурново в Рыбинске.
Уже после Пугачевского восстания деревня Ярославовой почему стала называться Ярославово -Лягушино. Так она значится уже в переписи 1850 года.
«Второе имя-фамилию» дер.Ярославовой получила в то время, когда она была в Оренбургской губернии, в период с 1796 по 1865 г., около 70 лет.
Однако в переписи 1811 года она ещё называется дер. Ярославовой.
Упоминание о Лягушино имеет принципиальное значение в контексте «Орловско-Пугачевского вопроса»
Об этом Лягушино, в котором находился путевой Чесменский дворец Алексея Орлова, по дороге к Гатчинскому дворцу Григория Орлова шла речь в статье «Франки на Севере: Зверинец и Приорат Григория Орлова в Гатчине, у Погоста Великой княгини Ольги» в следующем контексте:
«По дороге в Гатчину, был ранее город София. Ведь Петр I организовал всего 8 губерний. И там, где сейчас Гатчинский уезд у него был Софийский уезд. Павел I не обращал внимания на город Софию. А Александр I вообще упразднил…
Похоже, что « с водой выплеснули ребенка».
От Фонтанки до Сарского (Царского) села и Софии 22 эксклюзивных верстовых столба…
По дороге - Чесменский дворец на Лягушачьем болоте, что мне напомнило Ярославово -Лягушино, получившего второе имя Лягушино после восстания самозваного Петра III- «француза» Емели Пугачева в районе Бирска и Табынска»
С учетом «французской и лягушачьей» подоплеки всей этой истории дополню её следующими интересными данными.
В буклете, посвященном выставке «Царевна-лягушка» к 300-летию Петербурга уже в XXI веке, говорилось о том, что « память о первых обитателях этих мест сохранилась в городских названиях: Козье болото, Болотные улицы.
В местности Кекерекес был построен в XVIII веке богатый царский Чесменский дворец. Екатерина II заказала для него в Англии на заводе знаменитого Вержвуда фаянсовый сервиз «Зеленая лягушка»
Перед юбилеем Петербурга рассказывала об этом, в частности, статья Ирины Марчук «Брекекекекс, коакс, коакс»: в Смольном соборе открылась научно-историко-художественная экспозиция «Царевна-лягушка», опубликованная в «Театральном Петербурге»
Причем здесь театр?
Это объясняет состав участников :
«В выставке приняли участие: Государственный Эрмитаж, Государственный музей-заповедник «Петергоф», Музей антропологии и Этнографии, Государственный музей истории религии, Российская Национальная библиотека, Зоологический музей Российской Академии наук».
В самой же статье о «Царевнах лягушках Петербурга» цитировались персонажи комедии Аристофана «Лягушки» и анонсировалось Лягушиное меню Смольного :
«…Знаете, даже любитель поесть найдет для себя на этой выставке полезную информацию, а именно - сможет переписать рецепты ряда блюд: «Лягушачьи ножки в сметане», «Лягушки по-флорентийски», «Лягушки с черешней», «Лягушачьи окорочка по-провансальски». А человек, пришедший в уныние от жизненных невзгод, возможно, обретет бодрость духа от плаката, на котором изображена цапля с полузаглоченной лягушкой, которая изо всех сил сопротивляется тому, чтобы быть съеденной.
Кстати, кружки с таким рисунком и надписью «Никогда не сдавайся» были молниеносно раскуплены!».
В годы Пугачевского восстания башкирское Лягушино, как раз и не сдалось Емельяну Пугачеву.
Образ Лягушки и «Царевны Лягушки» для Петербурга был выбран, конечно, не случайно.
Это прямое указание на Вифанию и Никодимию, откуда родом была Равноапостольная Елена - мать Константина Великого, нашедшая Животворящий крест. Именно именем Святой Елены спустя пять веков крестили Великую княгиню Ольгу, к личному княжескому домену которой относятся и земли Петербурга, а на острове Креста Петербурга (Св.Натальи) был некогда найдет редкий Крест. («Дорога к единственному Храму княгини Ольги «на Нево» привела к Святой Наталье Никодимийской из Вифинии»).
Это Босфор. Никодимию называли ещё и «Афины в Вифинии», она была также столицей империи Константина до тех пор, пока император Константин не провозгласил близлежащий город Византий «Новым Римом» (впоследствии Константинополь, ныне Стамбул).
При этом есть ещё Неа Никомедия - самое древнее неолитическое поселение на территории Европы, датированное 7 тыс. до н. э. Это ранненеолитическая цивилизация оседлая, мирная, развивающаяся и знакомая с морскими коммуникациями. Неа Никомедия как раз известна, обнаруженными в ней, каменными фигурками лягушками.
При этом лягушка, замечу, «символизирует возникающую и постоянно обновляющуюся жизнь».
Упоминание о неком Лягушино относится к временам Пугачевского восстания, когда будущий «Глава старых масонов» О.И. Поздеев находился на территории современной Башкирии.
В «Очерках из истории колонизации Башкирии», её автор пишет:
«Узнав в Кундравине о событиях под Троицкой и приближении Пугачева к Коельской крепости, Михельсон выступил ему навстречу.
У деревни Лягушиной 22 мая повстречал до двух тысяч восставших. «Я, - писал Михельсон в рапорте 23 мая, - имев известие, что Пугачев разбит, никак себе не мог представить, чтоб сия толпа была Пугачева, а более думал, что идет корпус Деколонга, почему и послал разведать, а сам, выбрав по выходе из леса удобное место, построился к бою».
В статье о «Бирском Рюриковом городище» я выясняла вопрос о том: у какого-же из двух башкирских Лягушино был бой 22 мая, упоминаемый Михельсоном.
Пришла к выводу, что вероятнее всего речь шла о поселке Ключевское (Лягушино) Троицкого уезда, упоминаемом в статье об Аркаиме «Этнокультурная и политическая история Южного Урала в эпоху средневековья и в новое время» (авт.Рыбалко А.А. - этнограф, кандидат исторических наук, Новикова О.В. этнограф).
И в данном случае, общая топонимика, подобно «Бурново», указывает на то, что это село Ключевское каким-то образом связано с дер. Ярославовой «Лягушино тожъ».
При этом Лягушино около Троицка и Сысерти появилось раньше. Ведь восстание Пугачева было при Екатерине II. А второе наименование дер.Ярославовой отмечается, как минимум, 50 лет спустя.
Обращу внимание, что в Башкирии есть даже Париж, где первым воеводой был Василий Иванович Суворов, отец Александра Суворова - ещё одна важная фигура в подавлении Пугачевского восстания («Село Париж в Башкирии»). 300 человек из этого села участвовали позже в войне 1812-1814 года и брали Париж во Франции.
И видимо так было задумано, что этот Париж в Башкирии и ныне напоминает о «маркизе Пугачеве», также как и о некоем выдуманном, либо невыдуманном «Члене общества Невидимых № 222» казачьем полковнике Иване Ярославове, которого его автор французский дипломат Луи Жаколио вписал в Парижскую историю, обозначив оппонентом графа Лебедя /9/.
Начало же самого Пугачевского бунта 1773-1775 года пришлось на годы сразу после Раздела Польши, в 1772 году. В ходе этого раздела Австрии была отдана Галицкая Русь, т.е. Малороссия.
Одновременно восстание Пугачева пришлось и на «эпоху смены фаворитов» Екатерины II.
Стараниями графа Н.И.Панина - брата П.И. Панина, подавлявшего Пугачевский бунт, за год до этого, в 1772 году наступило некое охлаждение в отношениях Екатерины II и отца её детей Григория Григорьевича Орлова.
Буквально через год, в 1773 году восстал «маркиз Пугачев» с Дона.
И уже в 1774 году фаворитом стал Григорий Потемкин. Императрице нужно было «крепкое плечо».
Таким образом, либо казаки с Дона почувствовали ослабление Екатерины II, потерявшей опору в лице Григория Орлова и его братьев.
Либо это некий ответ Екатерине II в связи со сменой фаворита и переходом Галицкой Руси под юрисдикцию Австрии.
Обращает на себя внимание тот факт, что Емельян Пугачев - земляк Степана Разина, о чем уже сказано выше. А есаулом Степана Разина, в свою очередь, был казак Михаил Ярославов.
И я уже высказала выше предположение о том, что как раз отсюда и проистекает интерес маркиза Пугачева к Табынской крепости и к иконе Николы Закамского, перед которой носили знамя Парижского аббатства Сен-Дени и с которой, опять же, оказалась связанной судьба рода Ярославовых («Как березовцы икону выручали»).
Более того, Степан Разин и Михаил Ярославов в годы разинского «крестьянского восстания» делали набег на Флорищеву Пустынь, некогда отданную вместе с Ярополчем и Гороховцем, по несудимой тарханной Грамоте игумену Троице-Сергиевой Лавры Паисию Ярославову («Грамота Паисию Ярославову на земли и воды богини Флоры, Гороховца и Ярополча князя Ярополка - Петра, коронованного Христом»).
Можно сказать, что Михаил Ярославов прибыл в родовые вотчины своих предков. Ведь старец Паисий (Ярославов) получил земли и воды Ярополча в 1481 году по несудимой тарханной Грамоте.
Клады, которые там искали Степан Разин и Михаил Ярославов, скорее, были чем-то вроде «царской казны», хранившейся на реке Глушице.
Краткая история «кладов на реке Глушице» такова:
«Печатали», по признакам, деньги и на реке Сухоне, в Тотьме. На притоках этой реки Тотьмы были земли монастырей Дионисия Глушицкого и Спасо-Каменного, Сказание о котором писал Паисий (Ярославов).
[Моисею] же Ярославову была «явлена» духовная Дионисия Глушицкого.
При этом, на гравюре Г. П. Тепчегорского 1722 г. (ГЛМ), Дионисий Глушицкий изображен с большим Мальтийским крестом на его одеждах.
Хотя по его житию, Дионисий (в крещении Дмитрий) был пострижеником Спасо-Каменного монастыря. Родился же иконописец Дионисий Глушицкий, обращу внимание, вскоре после казни Жака де Моле. И прибыл в район Кубенского озера он с неким Крестом, который и закопал - в основание одного из храмов Покровского монастыря на р. Глушица.
Названный монастырь на Каменном острове Кубенского озера служил главным хранилищем царской казны ещё при Василии Темном. Вероятно и позже…»
Михаил Ярославов, хорошо знавший Иловлинский волок, Мологу и Рыбинск, конечно, владел и этими тайнами, пусть даже и обрывочно («Масонская табакерка Ярославовой - Брянчаниновой, Академия Наук Петра I, Дубровицы и Архангельское»).
Этим и объясняется тот факт, что объектом их интереса со Степаном Разиным был Ярополч на Клязьме - предтеча подмосковного Ярополча З.Г. Чернышева, у которого служил в дивизии все тот же самый Емельян Пугачев :
«Участвовал в Семилетней войне 1756-1763 годов, со своим полком состоял в дивизии графа Чёрнышева» - так описывается этот факт его биографии.
Т.е. у графа З.Г. Чернышева Емельян Пугачев служил за шесть лет до бунта в Башкирии. И был он не крестьянином, а казачьим полковником.
Крестьяне, замечу, и князя Пожарского с Мининым поддерживали, но «крестьянским бунтом» это Народное сопротивление не называли
За три года до «Пугачевского восстания», т.е. в 1770 году, при взятии Бендер (около Галиции), Пугачев был хорунжим П.И.Панина - позже усмирителя восстания этого же Пугачева. Т.е. граф П.И. Панин подавлял восстание своего бывшего подчиненного.
Более того, О.И. Поздеев, дежурный офицер при П.И.Панине и будущий глава российского масонства, во время подавления Пугачевского восстания, ещё до поимки Пугачева ушел в отставку и отбыл в Москву.
Далее идет некое «белое пятно» в биографии О.И. Поздеева. Затем он состоит правителем канцелярии графа З.Г. Чернышева, в бытность его Московским градоначальником, в 1782-1784 гг.
Причем к 1782 году, когда О.И. Поздеев появился рядом с З.Г.Чернышевым, он уже был известным масоном:
«Еще до 1782 г., когда русское масонство не имело самостоятельной, независимой от западно-европейского масонства, организации, Поздеев занимал среди масонов первенствующее место, наряду с Новиковым и Шварцем.
В 1785 г. он был назначен великим мастером провинциальной, подчиненной Москве, Рязанской ложи «Орфея»; в том же году был посвящен в члены Московского ордена «Злато-розового Креста»,
В 1789 г. состоял обрядоначальником «Теоретического градуса», уцелевшего от закрытия Московских лож, с 1786 по 1789 г.
Имя Поздеева, главным образом, связано с историей масонства в России и с крестьянским вопросом, тогда уже решительно выступившим на сцену общественной жизни» /2/.
Таким образом, уже будучи одним из руководителей российского масонства О.И.Поздеев, возглавил канцелярию бывшего начальника Емельяна Пугачева - З.Г.Чернышева, в бытность его генералом губернатором Москвы.
Ну а поскольку З.Г.Чернышев - это ещё и создатель подмосковного Ярополча, аналога Ярополча на Клязьме, то во всем происходившем в последующие годы в Ярополце (Ярополче Волоколамском) можно увидеть и след О.И. Поздеева.
Начались же, касающиеся конкретно Пугачева события, как видится, с Семилетней войны, в которой Емельян Пугачев воевал под предводительством главнокомандующего. З.Г. Чернышева.
Из бояр и дворян Ярославовых в Семилетней войне, где Емельян Пугачев воевал под началом З.Г.Чернышева, участвовал А.Т.Ярославов, в доме которого в Вологде, уже в 1791 году, как раз и проходили встречи кандидатов в ложу «Святой Екатерины Северной звезды» под руководством О.И.Поздеева, на что указывают многие обстоятельства.
В Семилетней войне было четыре главнокомандующих.
С.Ф.Апраксин ; П.С.Салтыков; А.Б. Бутурлин; З.Г.Чернышев.
Важная роль была и у В.И. Суворова (отца). Он был главным полевым интендантом заграничной русской армии.
Что касается бояр и дворян Ярославовых в Семилетней войне:
М.И. Ярославов был на должности генерал адъютанта премьер-майорского чина у генерал-аншефа и лейб-гвардии полковника С.Ф.Апраксина
А.Т.Ярославов состоял в штате генерал-фельдмаршала графа П. С. Салтыкова.
Тихон Михайлович Ярославов (отец) служил под началом В.И.Суворова в Архангелогородском гарнизоне. Подпись В.И. Суворова стоит на Грамоте императрицы Елизаветы о воинском звании Бригадира - отцу А.Т.Ярославова- Т.М.Ярославову. В этом же Архангелогородском гарнизоне служил проявивший себя наиболее ярко во время Семилетней войны морской офицер Алексей Дмитриевич Ярославов из «богдановской ветки».
Более подробно история о дворянах Ярославовых в годы Семилетней войны рассказана в статье :
Дополнением же к ней является то, что Емельян Пугачев, повторю, служил под началом З.Г.Чернышева.
Воевали в Семилетней войне за Померанию, т.е. за родину Рюриков.
В истории Европы эта война имела название Силезской, т.к. Австрия и Пруссия воевали за Силезию, а у Шведов она называется Померанской, поскольку Швеция имела намерение вернуть Западную Померанию или Балтийское Поморье. К Померании относится и знаменитый остров Рюген с остатками храма Аркона, откуда как считают, Рюрики пришли на Русь.
Одна из главных битв была за Колберг
«Колобжег (по-польски - «около берега») - очень старый город, возникший из славянской крепости. Это центр епархии во времена древнепольского государства Мешка I и Болеслава Храброго. Первым колобжегским епископом был Рейнберн, находившийся в свите дочери Болеслава - жены Святополка Окаянного, арестованный Владимиром и умерший в тюрьме в Киеве» (©\W).
«Война с Пруссией для России завершилась, когда 16 декабря пал Кольберг.
Но 25 декабря скончалась Елизавета Петровна.
В.И.Суворов попал в опалу и был направлен губернатором в Тобольск. Однако в Тобольск он не поехал, а принял участие в перевороте, в результате которого к власти пришла Екатерина II.
В истории рода Ярославовых началась новая эпопея, связанная с их близким родством с братьями Орловыми…» /6/
Во всех описываемых событиях «взорвать» Емельяна Пугачева могло то, что Австрии отдали Галицкую Русь, тогда как незадолго до этого он бился с его донскими казаками за Бендеры и потерял, вероятно, много соратников. Это всего лишь одна из версий. Но совпадение по времени не случайно.
Причем арестовал, в конечном счете, Емельяна Пугачева тот же самый В.И.Суворов (отец). Однако лавры ареста Пугачева присвоил себе П.И.Панин. А в выигрыше, в конечном счете, оказался фаворит Потемкин.
По этой причине представлю сюжет с арестом Пугачева полностью, т.к. что он объясняет финальный расклад сил в истории с «маркизом Пугачевым».
«По совету Потемкина Екатерина приказывает Румянцеву отправить Суворова для борьбы с мятежниками. Потемкин попытался сделать его своего рода противовесом Панину, назначив Суворова командовать передовыми войсками с определением в Московскую дивизию. Опытный Панин разгадал этот ход и опротестовал его. Екатерина, уже уверенная в скором успехе, приказала Суворову «до утушения бунта» быть в команде Панина. Суворов прискакал на новый театр военных действий уже после того, как Михельсон нанес мятежникам смертельное поражение. За Волгу удалось уйти Пугачеву и 150 казакам. Повстанческая армия перестала существовать. Энергичное преследование беглецов Суворовым на несколько дней ускорило развязку. Казачьи атаманы арестовали самозванца и выдали его отряду правительственных войск. Шедший по пятам за Пугачевым Суворов оказался первым из старших начальников, прискакавших в Яицкий городок, где содержался лже-Петр III. В осеннюю непогоду и распутицу стремительный генерал двинулся к Москве. Но Панин не собирался уступать ему славу спасителя отечества и приказал везти пленника в Симбирск. 1.Х.1774 г. Суворов сдал Пугачева Панину и тот при многочисленных свидетелях поблагодарил генерала за ревность и труды. Павел Потемкин поспешил уведомить об этом императрицу, не поскупившись на критику. «Голубчик, Павел прав, -- заявила государыня, подводя итог беседе с Потемкиным, хвалившим своего боевого товарища. -- Суворов тут участия более не имел, как Томас (комнатная собачка императрицы. -- В.Л.),а приехал по окончании драк и по поимке злодея» (письмо No 127). Она уже продумала меры по ослаблению панинской группировки и выдвинула на первый план никому не известного Михельсона.
Суворов остался без награды, а Потемкин получил еще один предметный урок государственного подхода к делу. Добавим, что он никогда не забывал Суворова и смело поручал ему ответственные задания.
С поимкой Пугачева восстание быстро угасло. И снова Екатерина не могла не подумать о правильности своего выбора. Рука об руку с Потемкиным она справилась с тяжелейшим кризисом, грозившим России неисчислимыми бедами.
Поголовное истребление культурного класса - дворянства - и победа неграмотного народного царя могли означать одно: крах государства и огромные жертвы.
При всей справедливости возмущения крестьян крепостническими порядками, мздоимством и неповоротливостью администрации на местах (об этом честно доносили А.И. Бибиков, С.И. Маврин, Г.Р. Державин, П.С. Потемкин) беспощадная гражданская война была самой настоящей «политической чумой». Екатерина уверенно смотрела в будущее: рядом был Потемкин…»
История эта рассказана в работе В. С. Лопатин «Екатерина Вторая : Письма, без которых история становится мифом»
Как видим, прекрасно отдавая себе отчет в том, что дворяне и помещики жестоко притесняют крепостных, императрица при этом, выбирая между «народным царем» и дворянством, отдала предпочтение культурному дворянству.
Мне произошедшее видится несколько иначе, с учетом большого числа исследований посвященных тому, как сосланные в Казань и за Каму при Иване Грозном князья и бояре, а также дворяне, попавшие в опалу, разоряясь были вынуждены заниматься крестьянским трудом и даже попадали в кабалу.
И в этой связи возникает большой вопрос: а крестьяне ли это были?
И не получилось ли так, что многие «закамские крестьяне» были родовитее потомков худородных родов, поднявшихся в годы опричнины Ивана Грозного и Романовых?
Понятно, что угнетенные башкиры уже просто присоединились к этому восстанию.
Но лидеры восстания, не исключено, были равны по родовитости тем, кто подавлял бунт «Маркиза Пугачева»
К тому же, точные цели восстания не высвечены до сих пор, с учетом и очевидного «французского фона» и того, что «предтечи Пугачева» : Степан Разин и Михаил Ярославов направились прямиком во Флорищеву пустынь и Ярополч на Клязьме - некий сакральный центр управления Русью, который ещё при царе Иване III контролировал старец Паисий (Ярославов).
Причем и казаки осваивали Дон при сестре Ивана III - Анне Рязанской.
«Рязанские казаки Великой княгини Анны Рязанской (Рюрик) - правнучки Дмитрия Донского, которую по власти её можно уподобить лишь Анне Ярославне - королеве Франции, - первый раз «брали Казань» в середине XVI века. Следствием этих казанских завоеваний позже стало и завоевание Башкирии, а также появление Бирска в 1555 году, ведущего свое начало от села Челяднина и от церкви Михаила - Архангела, особо почитаемого в Черниговском княжестве, на гербе которого он изображен.
Бояре Челяндины, знатного древнего рода, были близки к Ивану III, весьма почитались как послы казанским ханом Махмет-Амином и, при этом, один из них был даже наместником в Пскове.
По этим трем позициям бояре Челяндины близки к князьям Оболенским, один из которых - князь Ярослав Васильевич Оболенский в конце XV века был Принцем Псковским, и, судя по историческим фактам, принадлежал к Ордену крестоносцев.
В годы правления Анны Рязанской княжество Рязанское ещё не было присоединено к Москве. Это было самостоятельное Царство, хотя и контролируемое Москвой через родство брата и сестры: Великого князя Московского Ивана III и княгини Анны Рязанской.
При этом просвещенная и властная княгиня Анна Васильевна, как уже сказано, желала приумножить подчиненные ей территории, и родной брат Иван III отдал ей сначала Пронское княжество, а затем согласился и на заселение, спорных для Москвы и Рязани, донских земель безбрежной «рязанской украины».
Одновременно с «донской украиной» Анна Рязанская покорила сердце хана Кисима. «Касимов пал» - я думаю, сказано об этом…» («Бирское «Рюриково городище» и Климент Ярославов - староста Архангельского - Бирь, контролировавший Перевоз через реку Белую, Ч.2»).
В рязанских землях, о которых идет речь, уже в XVII веке около Зарайска упоминаются некие «мещане Ярославовы». Редко Ярославовых называли мещанами (за исключением Уфы), но и это могло быть. Ведь женились же бывшие дворяне Ярославовы в XX веке на крестьянках. Хотя «крестьянки» в бывшем Казанском ханстве могли быть такие же, как и сами Ярославовы. Т.е. бывшие князья, превращенные в служилых людей, затем в военных и казаков. Ну а там - и до крестьянского труда не далеко.
Упоминаются Ярославовы в Рязанской десятне вот в таком контексте:
«Ярославовы мещене - Перев.стана 1646г. в д.Тютрюмовой»
Пояснения по Тютрюмово следующие:
«Тютрюмово - деревня при р. Пилис, в 16 км на юго-восток от Зарайска. Впервые упоминается в качестве прихода Астрамьевской Казанской церкви, которая известна в XVII в. Названа по имени первопоселенца Тютрюма или по фамилии владельца Тютрюмова. В XV в. в Новгороде жил, например, боярин Тютрюм Василий. Тютрюмовы - известная местная дворянская фамилия. Так, в конце XIX в. уездным предводителем дворянства в г. Кириллове был В. М. Тютрюмов. Видимо, и род один из древних: в грамоте Вологодского уезда 1498 г. упоминается фамильное прозвание одного из местных землевладельцев Тутрямов (АСЭИ, II, № 297)»
«22 августа 1824 года государь император Александр Павлович проезжал через село Астрамьево из Зарайска в Рязань, и соблаговолил выдать на постройку церкви 100 рублей ассигнациями. В 1826 году помещиком Н.А. Новиковым построен каменный храм в честь Казанской иконы Божией Матери»
Т.е., опять же, здесь связь с Вологдой, масонством, кирилло-белозерскими и рыбинскими местами, откуда родом был и русский Батый.
«Место рождения Батыя проясняет и тот факт, почему ярлыки на власть, по сути, давал и старец Паисий Ярославов
Долевым владением вотчин с Ярославовыми, обращу внимание, дорожили и Пушкины. Конкретно Пушкины не один раз упоминаются совладельцами имений рязанской помещицы Т.Ф. Ярославовой, имевшей общих детей с Федором Григорьевичем Орловым - братом Светлейшего князя Г.Г.Орлова…
Карта завоеваний Батыя 1237-1240 годов четко показывает его интерес не только к Ярославлю на Волге, но и к Ярославлю в Прикарпатье, на реке Сян, рубежной между Галицко-Волынским и Польским королевством. Получается, что он стремился к контролю над двумя городами Ярослава Мудрого.
Возможно, Батый шел и к третьему Ярославлю - нынешнему селу Ярославы Данковского района близ Рязани. Раньше Ярославы назывались Ераславль. И, есть такое впечатление, что они повторили судьбу Ярополча - Пировых городищь, от которых осталась одна табличка о том, что они уничтожены Батыем.
«Здесь в 12 веке был город Ярополц, сожженный в 1239 году при осаде … Батыя».
Книга «Текстология» Д.С.Лихачев, где говорится о том: «Батый был русский, ярославец, из села Черемхи, и пришел под Ярославль отыскивать своего отца», посвящается текстологическим исследованиям более чем десяти списков «Повести о Николе Зарайском».
В «Повести» органически соединены трафаретная церковная легенда с полными жизни и чувства рассказами о разорении Рязанской земли и героизме Евпатия Коловрата. Косвенным подтверждением воинского характера «Повести о Николе Зарайском» служат близкие к герою зарайской легенды: Никола Можайский (начало XIV в.), Никола Великорецкий (середина XVI в.) и Никола Радонежский (середина XVII в.), пропагандировавшиеся как защитники от врагов… По-видимому, в военной служилой среде и в XVII в. сохранился особый профессиональный интерес к Русской воинской доблести».
Второе название города Зарайск - Красный. Наряду с киевской версией распространена версия о принесении этой иконы Николы Зарайского из Корсуни Таврической - в Красный близ Рязани, позже названный Зарайск.
Причем у иконы Николы Зарайского, был, по сути, эскорт.
Особые военные эскорты мне известны только у иконы Николы Закамского».
Ну а поскольку икону Николы Закамского спасали от Емельяна Пугачева, то можно предположить, что противостояние «эскорта иконы Николы Закамского» с Пугачевым носило характер близкий к противостоянию между Евпатием Коловратом и Батыем.
Причем Пугачева, также как Батыя, интересовали Карпаты. А Степана Разина - Ярополч, уничтоженный Батыем.
Хотя Батыем ли он разорен? Для меня вопрос остается открытым.
В статье «Грамота Паисию Ярославову на земли и воды богини Флоры, Гороховца и Ярополча князя Ярополка - Петра, коронованного Христом» мною была показана связь между Флорищевой пустынью и Кубеной, с одной стороны, а также Флорищевой пустынью и подмосковным Ярополчем на Волоке Ламском - с другой стороны.
Причем круг участников всегда один: Орловы, Мельгуновы, Ярославовы, Чернышев, Голицын - дядька Петра I и потомки Петра I.
Но начиналось все с Паисия (Ярославова), а ещё ранее - с князя Ярополка Изяславича и Галицкой Руси в Карпатах. После передачи Галицкой Руси - Польше и начались Пугачевские бунты.
И речь, в данном случае, идет о родовых владениях Ярославовых.
Хотя в связи с казанской ссылкой остался не разрешенным вопрос о судьбе вотчин князя Ярославова - Ярославского, прямо связанных с историей рода.
Именно в Ярополче на Клязьме, как считают, в первозданном виде сохранилось поклонение Неопалимой купине.
Напомню, при этом, что Моисей светской власти не признавал… Он признавал Неопалимую купину. Возможно, поэтому и Ярославова называли Моисеем.
Напомню, также и о том, что в статье об Ипатьевских тайнах был сделан следующий акцент : Городец - Китеж не редко путают с Городцом Мещерским - Касимовым. И возможно делается это намеренно, поскольку Городец - Китеж, путают ещё и с тем же самым Гороховцем, который был отведен по грамоте Ивана III - Паисию Ярославову, игумену Троице - Сергиевой Лавры, вместе с Ярополчем. Упомнятое же выше Тютрюмово находится недалеко от Мещовска - Мещерска.
Было время, я довольно долго не могла найти ответ на вопрос: откуда Елизавета Федоровна Романова узнала о месте явления иконы Николы Закамского и почему она приезжала туда уже в статусе главы Православного императорского общества.
Затем ответ был найден в том, что воспитательницей её мужа, Рыцаря Гроба Господня Сергея Александровича Романова была А.Ф. Тютчева - супруга башкирского Аксакова.
Теперь эта история дополнилась ещё и тем, что Федор Тютчев был родственником и «Салтычихи», и того самого её любовника Николая Андреевича Тютчева, которого она хотела убить из ревности. Дети же «Салтычихи» после её ареста были переданы на воспитание Ивану Никифоровичу Тютчеву - мужу родной сестры Салтычихи и одновременно отцу Федора Ивановича Тютчева, а также деду А.Ф.Тютчевой - воспитательницы мужа Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой.
Так, что история эта с «алхимией» Салтычихи - источнике бунтов, типа Пугачевских - гораздо сложнее.
Разобрался ли с ней О.И. Поздеев? Ответа нет.
- «Жизнедеятельность «великого авторитета партии ретроградов и обскурантов» Иосифа Алексеевича Поздеева», Мищенко А.Н.
- «Поздеев, Осип Алексеевич». Ив.Давидович
- «Северная звезда: Продолжение «реконструкции» круга Вологодского дворянства конца XVIII в.»
- «Орден Святой великомученицы Екатерины»
- «Великомученница Екатерина Александрийская (Синайская)»
- «Царские Грамоты боярам Ярославовым о жалованных вотчинах и воинских званиях. Ярославовы в годы Шуйских, Сигизмунда III и Семилетней войны»
- «Поэт и «дети вдовы» Новое о масонских связях А.С.Пушкина (По архивным материалам)», В.И.Сахаров
- «Мистицизм и западно-европейский эзотеризм в религиозной жизни русского дворянства в последней трети XVIII - первой половине XIX в.: опыт междисциплинарного исследования», В. В. Кучурин
- «Тайное «Общество Невидимых» и единый Славянский корень: Иван Ярославов и два олигарха Михаила»
Все материалы раздела «Я урожденная Ярославова Наталья Борисовна 22.2.60 »